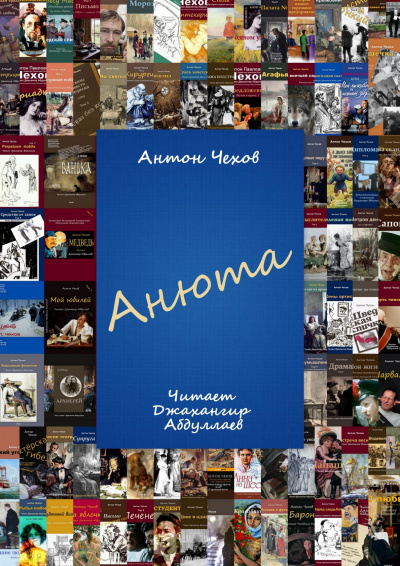1. Народ — собственник.
2. Государство — сервис.
3. Ресурсы — наши.
4. Долги — согласованы.
5. Прозрачность — закон.
6. Коррупция — невозможна.
7. Экономика — управление изобилием.
8. Власть не креслами, а правом распоряжаться своим.
9. 90% — народу.
10. 10% — службе.
11. Хозяин — реестр, а не декларация.
Текст озвучания
Узбекистан через призму Модели 90к10
Образец публичной лекции
Сегодня мы говорим о том, что действительно должно принадлежать народу. О том, что называется Модель 90/10.
Представьте страну, где каждый гражданин — законный собственник национального богатства. Каждая доля, каждый ресурс, каждый актив фиксирован, прозрачен и защищён. Народ — не статистика, не электорат, не объект бюрократических решений. Народ — собственник.
А государство? Оно перестаёт быть хозяином. Оно становится сервисом, управляющим только 10% ресурсов. Его роль — поддерживать инфраструктуру, обеспечивать прозрачность и сервис для граждан. Государство уже не решает, кто достоин, а кто нет; оно обслуживает права совладельцев.
Экономика меняется. Она перестаёт быть борьбой за выживание. Она становится управлением изобилием, доступным каждому совладельцу. Ваши ресурсы — не декларация и не обещание, а реальные дивиденды, которыми вы распоряжаетесь сами.
Любая транзакция публична. Любая попытка присвоения чужого становится технически невозможной. Любые внешние обязательства страны возможны только с согласия собственников — с согласия каждого из нас. Суверенитет перестаёт быть лозунгом, он становится реальным, экономическим фактом.
Махалля перестаёт быть инструментом контроля. Она становится социальной и экономической единицей: здесь люди принимают решения совместно, инвестируют в своё образование, здоровье, бизнес, инфраструктуру. Действия каждого влияют на общую судьбу сообщества.
Социальная политика теперь — это дивиденды, а не милость. Вы сами решаете, куда инвестировать свою долю: в образование, в бизнес, в здоровье. Вы больше не объект, вы — субъект.
Налоги перестают быть карательным инструментом. Они становятся сервисной подпиской: прозрачной, фиксированной и справедливой.
И главное: власть перестаёт быть креслами, титулами и тайными схемами. Власть — это контроль над ресурсами через прозрачные правила и запись в реестре.
Запомните: 90% — народу, 10% — государству на управление и сервис.
Хозяин страны — не абстрактное общество, не элита, не администрация. Хозяин — каждый гражданин, зафиксированный в реестре, обладающий правом распоряжаться своей долей.
Друзья, это не утопия. Это ревизия исходного договора. Прозрачного, справедливого и неизбежного.
И теперь, когда мы говорим о будущем страны, задайте себе один вопрос: кто должен решать за вас, если вы сами являетесь хозяином?
Ну, а сейчас, рассмотрим Республику Узбекистан через призму Модели 90/10.
Введение. Ошибка основания
Узбекистан принято называть бедной страной, и это определение повторяется с такой уверенностью, будто речь идёт о природном законе. Между тем бедность здесь — не состояние, а симптом, не исходная данность, а следствие глубокой юридической ошибки, заложенной в основание всей системы. Страна, обладающая одними из крупнейших в регионе запасов золота, газа, урана, плодородных земель и человеческого капитала, не может быть бедной по определению. Бедным может быть только народ, лишённый доступа к тому, что ему формально принадлежит. Именно это и произошло: право собственности было объявлено, но не реализовано, зафиксировано в словах, но не превращено в механизм.
Национальные ресурсы существуют как физическая реальность, но юридически они изъяты из повседневной жизни гражданина. Формула «недра принадлежат народу» присутствует в конституционной риторике, но отсутствует в практическом измерении. У народа нет персонализированного права, нет доли, нет реестра, нет инструмента распоряжения. Народ в этой конструкции — абстрактный источник власти, но не субъект собственности. А там, где нет субъекта, неизбежно появляется заместитель. Этим заместителем становится государство, которое постепенно перестаёт быть хранителем и превращается в квазисобственника, распоряжающегося ресурсами от имени всех, но без согласия каждого.
Так возникает системный сдвиг, который редко осознаётся: государство начинает вести себя не как сервис, обслуживающий общественный интерес, а как владелец, распределяющий доступ к благам. Бюджет подменяет дивиденды, социальные программы заменяют право собственности, а лояльность становится валютой, за которую можно получить часть того, что по праву уже должно принадлежать гражданину. В этой логике человек не хозяин, а получатель, не участник, а объект управления. Экономика при этом не развивает богатство, а администрирует дефицит, создавая иллюзию постоянной нехватки там, где на самом деле присутствует изобилие.
Модель 90/10 возникает не как утопический проект и не как революционный призыв к разрушению существующего порядка. Она предлагает куда более опасную и потому более радикальную вещь — ревизию исходного договора. Она задаёт простой, но неудобный вопрос: если ресурсы принадлежат народу, где именно это зафиксировано, как это измеряется и каким образом реализуется? Модель не требует смены флагов, лозунгов или элит, она требует вернуть право собственности из области деклараций в область точных записей, прозрачных реестров и прямой ответственности. В этом смысле 90/10 — не идеология и не политическая программа, а попытка исправить ошибку основания, на которой десятилетиями строилась система, привыкшая управлять богатой страной как бедной.
I. Государственно-правовая система: где подменили право
1. Конституционная фикция собственности
Ключевая подмена в узбекской государственно-правовой конструкции происходит на самом раннем уровне — на уровне языка права. Формула «недра принадлежат народу» выглядит как акт высшей справедливости, но при ближайшем рассмотрении оказывается юридической фикцией. В праве собственность существует только там, где есть три элемента: субъект, объект и механизм распоряжения. В узбекской модели объект обозначен, декларация о принадлежности произнесена, но субъект растворён в абстракции, а механизм отсутствует полностью. В результате возникает не право собственности, а его имитация.
Народ в этой конструкции не выступает субъектом права в строгом смысле слова. Он не имеет ни доли, ни учётной записи, ни возможности зафиксировать своё право в юридически значимой форме. «Народ» здесь — это не совокупность конкретных граждан с равными и измеримыми правами, а символическая категория, удобная для риторики и опасная для точного учёта. Абстрактный субъект не может ни требовать отчёта, ни предъявлять иск, ни распоряжаться тем, что ему якобы принадлежит. Там, где субъект растворяется, право перестаёт быть правом и превращается в лозунг.
Эта пустота неизбежно заполняется. И заполняется она властью. Государство, первоначально задуманное как доверенный управляющий общего имущества, постепенно становится его фактическим собственником. Не потому, что кто-то однажды украл ресурсы, а потому, что некому было их защищать как право. В отсутствие персонализированного собственника любое управление начинает восприниматься как владение. Бюрократия не обязательно осознаёт себя вором — она искренне считает себя хозяином по умолчанию, поскольку альтернативы просто не существует в юридическом поле.
Так возникает парадокс: формально ресурсы принадлежат всем, но реально ими распоряжаются немногие; формально государство служит народу, но фактически народ вынужден просить у государства доступ к тому, что уже записано за ним на уровне деклараций. Конституционная норма, лишённая реестра и механизма реализации, перестаёт быть нормой прямого действия и превращается в идеологический орнамент. Она украшает фасад, но не держит конструкцию.
Главный порок здесь не в коррупции как таковой, а в самой архитектуре права. Право без учёта не работает. Право без персонализации не защищается. Право без инструмента реализации неизбежно отчуждается. Именно поэтому в рамках Модели 90/10 вопрос ставится не о перераспределении доходов и не о «справедливости» в моральном смысле, а о восстановлении субъекта права. Пока у каждого гражданина нет зафиксированной доли в национальном достоянии, пока эта доля не отображается в открытом и проверяемом реестре, любые разговоры о народной собственности будут оставаться риторикой, а государство — фактическим собственником под маской хранителя.
2. Государство как держатель вместо хранителя
Когда право собственности лишено субъекта, управление неизбежно подменяет хранение. Именно это и произошло в узбекской государственно-правовой системе. Кабинет министров, отраслевые министерства, государственные корпорации и квазигосударственные холдинги распоряжаются активами так, будто получили на это естественное право, хотя в действительности они обладают лишь функцией временного администрирования. Формально они действуют «в интересах народа», но юридически не связаны с народом как с собственником. Между управляющим и владельцем отсутствует договор, а значит отсутствует и ответственность.
Государственные структуры оперируют недрами, землёй, энергетикой и инфраструктурой без мандата соучредителей, потому что сами соучредители нигде не зафиксированы. Гражданин не может открыть реестр и увидеть, какая доля ресурса принадлежит ему, какие доходы она принесла и на что они были направлены. Он не может потребовать дивиденды, сменить управляющего или проголосовать за стратегию использования актива. Всё, что ему доступно, — это постфактум одобренный бюджет и отчёты, адресованные не ему лично, а некой обезличенной массе.
Отсутствие обязательной отчётности перед гражданином как собственником формирует особый тип власти — власть без клиента. Министерства отчитываются перед вышестоящими органами, госкомпании — перед наблюдательными советами, но нигде в этой вертикали нет конкретного человека с юридически оформленным правом сказать: «Это моё, отчитайтесь передо мной». В результате государство перестаёт быть сервисом и начинает вести себя как держатель активов, для которого народ — не заказчик, а фактор внешней среды.
Модель 90/10 предлагает принципиально иную архитектуру, не разрушая государственность, а возвращая ей правильное место. Государство в этой модели перестаёт быть «владельцем по умолчанию» и становится управляющей компанией с чётко ограниченным мандатом. Его доля — 10% от совокупного дохода — это плата за управление, безопасность, инфраструктуру и арбитраж. Всё остальное принадлежит реальным собственникам, зафиксированным в реестре. Управляющий не может изменить правила игры, потому что он сам встроен в них как обслуживающий элемент.
Народ в этой конструкции перестаёт быть абстрактным «источником власти», к которому апеллируют в торжественных речах, и становится реестром собственников с измеримыми правами. Это качественный сдвиг: власть больше не черпается из мифа о народе, а вытекает из точного учёта собственности. Государственные решения в такой системе перестают быть актами благодеяния и превращаются в управленческие отчёты перед владельцами. Не народ существует ради государства, а государство — ради эффективного и прозрачного обслуживания интересов тех, кому по праву принадлежит страна.
II. Экономическая система: экономика без хозяев
1. Бюджетная модель нищеты
– Доходы от ресурсов растворяются в бюджете.
– Бюджет — черный ящик, а не дивидендный отчет.
– Гражданин — проситель, а не акционер.
Порок: бюджет перераспределяет то, что должно распределяться автоматически.
Экономика Узбекистана устроена как экономика без собственников, и именно в этом кроется её хроническая неэффективность. Формально страна зарабатывает на ресурсах, экспорте, транзите и труде миллионов людей, но на уровне повседневного опыта это богатство не ощущается. Причина не в отсутствии доходов, а в том, как они перерабатываются системой. Все потоки сходятся в одной точке — бюджете, который из инструмента коллективного управления превратился в черный ящик, отрывающий доход от его источника и собственника.
Доходы от недр, энергетики и государственных активов растворяются в бюджетной массе, теряя свою происхождение и адресность. Гражданин не знает, какой объём золота был добыт в конкретном году, сколько дохода он принёс и какую долю этого дохода он имеет как совладелец. Бюджет подаётся как высшая форма общественного блага, но по сути он функционирует как механизм обезличивания собственности. В нём деньги перестают быть дивидендами и становятся «средствами», распределяемыми по усмотрению власти.
Бюджетная модель формирует особую психологию нищеты. Государство постоянно объясняет гражданину, что денег не хватает, что нужно «затянуть пояса», подождать, потерпеть и надеяться на будущий рост. При этом сам факт существования ресурсов не отрицается, но между ресурсом и человеком выстраивается непрозрачная цепочка посредников. В этой логике гражданин перестаёт быть акционером страны и превращается в просителя, который вынужден благодарить за социальные выплаты, льготы и субсидии, получая их не как право, а как милость.
Черный ящик бюджета опасен не только экономически, но и институционально. Он уничтожает обратную связь. Если гражданин не видит прямой связи между богатством страны и своим благосостоянием, у него исчезает мотивация к контролю, участию и созиданию. Экономика превращается в систему перераспределения дефицита, а не управления изобилием. Любой кризис в такой модели мгновенно перекладывается на население, потому что у него нет статуса собственника, который позволял бы требовать иного подхода.
С точки зрения Модели 90/10 именно здесь проходит водораздел. Бюджет перестаёт быть центром экономической вселенной и превращается в отчёт управляющей компании перед собственниками. Доходы от ресурсов больше не «растворяются», а распределяются как дивиденды по персональным счетам соучредителей. Гражданин в такой системе перестаёт спрашивать «почему мне мало дали» и начинает задавать вопрос «почему актив управляется неэффективно». Это меняет не только экономику, но и сам тип мышления общества, возвращая ему ощущение хозяина там, где десятилетиями воспитывалась роль просителя.
2. Налоги как инструмент подчинения
– Налоги платит бедный собственник, не получающий дивидендов.
– Отсутствие обратной связи «доход → доля → участие».
Что меняет 90/10:
– 90% доходов идут напрямую гражданам как совладельцам.
– 10% — фиксированная плата за управление.
– Налоги теряют карательную функцию и становятся сервисной подпиской.
В экономике без хозяев налоги неизбежно превращаются не в инструмент участия, а в инструмент подчинения. В узбекской модели налог платит человек, который формально считается собственником страны, но фактически не получает от этой собственности никаких дивидендов. Он отдаёт часть своего дохода системе, не видя ни прямой связи с результатом, ни возможности повлиять на способ использования изъятых средств. В такой конструкции налог перестаёт быть вкладом в общее дело и начинает восприниматься как наказание за сам факт экономической активности.
Отсутствие связки «доход → доля → участие» разрушает саму логику общественного договора. Гражданин не понимает, за что он платит и что именно получает взамен. Его платежи не увеличивают его долю, не дают ему дополнительных прав, не усиливают его голос. Они просто исчезают в бюджетном механизме, возвращаясь в виде обезличенных услуг, качество которых не поддаётся прямой оценке. Налогоплательщик не чувствует себя инвестором государства, он чувствует себя объектом фискального давления.
В этой логике налоговая система начинает выполнять карательную функцию. Она дисциплинирует, наказывает, контролирует, но не вовлекает. Чем активнее человек работает и зарабатывает, тем сильнее он ощущает давление, не получая при этом ощущения роста своей доли в общем богатстве. Возникает парадокс: труд и предпринимательство становятся источником риска, а не свободы. Экономическая энергия общества уходит не в развитие, а в уклонение, тень и минимизацию контактов с государством.
Модель 90/10 радикально меняет эту оптику, не отменяя налоги в привычном смысле, а лишая их подчиняющей природы. Девяносто процентов доходов от национальных ресурсов и ключевых активов поступают напрямую гражданам как совладельцам. Это не социальные выплаты и не пособия, а дивиденды от собственности. Десять процентов остаются у государства как фиксированная плата за управление, безопасность, инфраструктуру и правопорядок. Эта доля прозрачна, предсказуема и не может быть произвольно увеличена.
В такой системе налоги перестают быть формой изъятия и превращаются в сервисную подписку. Гражданин платит не потому, что его принуждают, а потому, что он видит ценность в качестве управления. Он понимает, что плохой сервис можно заменить, а неэффективного управляющего — сменить. Налог больше не символ зависимости, а инструмент договора между собственником и теми, кто обслуживает его интересы. Именно в этом сдвиге — от подчинения к участию — и заключается экономическая революция Модели 90/10.
III. Финансовая система: деньги без доверия
1. Национальная валюта без обеспечения
– Сум обеспечен доверием к государству, а не к активам.
– Инфляция — скрытый налог на бедных.
Финансовая система Узбекистана держится на деньгах, за которыми не стоит право собственности. Национальная валюта существует как знак доверия к государству, но не как производная от реальных активов, принадлежащих гражданам. Сум обеспечен не золотом, не газом, не землёй и не долями в национальном богатстве, а обещанием управляющего, что завтра он будет вести себя так же разумно, как сегодня. Это доверие вынужденное, а не добровольное, потому что альтернатив у большинства людей просто нет.
Деньги в такой системе оторваны от экономики собственности. Они не являются квитанцией на долю в общем достоянии и не дают права требования. Сум — это не сертификат участия, а инструмент расчёта, навязанный сверху. Его ценность определяется не прозрачностью баланса страны, а монетарной политикой, решения о которой принимаются в закрытых кабинетах. Гражданин не видит, какие активы стоят за его сбережениями, и потому интуитивно не доверяет ни валюте, ни институтам, которые ею управляют.
Инфляция в этой системе становится скрытым налогом, причём самым несправедливым из возможных. Она не требует парламентского голосования, не фиксируется в налоговом кодексе и не поддаётся общественному контролю. Она просто происходит. И платят за неё прежде всего те, кто живёт на фиксированные доходы и не имеет доступа к активам, способным защитить сбережения. Богатые уходят в валюту, недвижимость и связи, бедные — в обесценивание собственного труда. Таким образом, финансовая система не просто обслуживает неравенство, она его ежедневно воспроизводит.
Отсутствие обеспечения деньгами реальных активов разрушает доверие на глубинном уровне. Люди перестают мыслить в долгую, потому что не верят в сохранность будущего. Сбережение становится бессмысленным, инвестиция — рискованной, а финансовое поведение — краткосрочным и оборонительным. Экономика в таких условиях не может быть устойчивой, потому что деньги в ней не являются носителем ответственности, а лишь временным эквивалентом власти.
Через призму Модели 90/10 эта проблема обнажается особенно ясно. Деньги возвращают доверие только тогда, когда за ними стоит право. Валюта, обеспеченная прозрачным реестром национальных активов и персонализированными долями граждан, перестаёт быть обещанием и становится отражением реальности. Инфляция в такой системе невозможна как произвольный акт, потому что любое расширение денежной массы автоматически соотносится с реальным объёмом достояния и долей собственников. Деньги снова становятся мерой участия, а не инструментом скрытого изъятия, и именно в этом заключается фундаментальное восстановление доверия, без которого ни одна финансовая система не может быть жизнеспособной.
2. Банки как посредники между ничем и ничем
– Кредиты без опоры на долю в национальном капитале.
– Население живёт в долгах, не зная, что уже богато.
Что меняет 90/10:
– Деньги привязываются к реальным ресурсам.
– Каждый гражданин — носитель обеспеченного актива.
– Банки превращаются в сервисы, а не хозяев финансов.
***
В финансовой системе без зафиксированной собственности банки неизбежно превращаются в посредников между пустотами. Они выдают кредиты, не опираясь на долю человека в национальном капитале, потому что эта доля нигде не существует в юридически значимой форме. С одной стороны — деньги, созданные из доверия и обязательств, с другой — заёмщик, лишённый активов, но вынужденный подтверждать свою «платёжеспособность» справками, залогами и поручительствами. Между ними нет реального богатства, есть только обещания и страх.
Кредит в такой системе становится суррогатом доступа к собственным же ресурсам. Человек берёт в долг, чтобы купить жильё, оплатить образование или начать дело, не подозревая, что по праву рождения он уже совладелец страны, способной обеспечить всё это без кабальных условий. Банковская прибыль возникает не из роста общего богатства, а из эксплуатации разрыва между формальной народной собственностью и фактическим отсутствием персональных прав на неё. Население живёт в долгах не потому, что бедно, а потому, что ему не дали инструмента осознать и реализовать своё богатство.
Банки в этой модели приобретают власть, несоразмерную их реальной функции. Они начинают определять, кто достоин будущего, а кто нет, кому можно развиваться, а кому следует подождать. Финансовое посредничество подменяется управлением судьбами. При этом сами банки не несут ответственности за системную бедность, потому что формально действуют в рамках правил, созданных государством, которое, в свою очередь, не признаёт граждан собственниками.
Модель 90/10 меняет саму природу банковского сектора. Деньги в ней привязываются к реальным ресурсам через прозрачный реестр национального достояния. Каждый гражданин становится носителем обеспеченного актива — своей доли в общем богатстве, зафиксированной и проверяемой. Кредит перестаёт быть актом милости и превращается в инструмент управления собственным капиталом. Человек не «просит» у банка, а использует свою долю как основание для инвестиций, развития и предпринимательства.
В такой системе банки утрачивают статус хозяев финансов и возвращаются к своей естественной роли сервисов. Они обслуживают расчёты, управляют рисками, помогают конвертировать активы в проекты, но не диктуют условия существования. Их прибыль зависит не от долговой зависимости населения, а от эффективности обслуживания реальных собственников. Финансовая система перестаёт быть пирамидой обязательств и становится инфраструктурой роста, где деньги снова означают не власть над человеком, а доверие, подкреплённое реальным богатством.
IV. Политическая система: власть без ответственности
1. Элиты без экономического мандата
– Политики управляют тем, чем не владеют.
– Отсутствие персональной ответственности за ресурсы.
***
Политическая система Узбекистана унаследовала и закрепила ту же фундаментальную ошибку, что и экономика с правом: власть отделена от собственности, а управление — от ответственности. Политические элиты принимают решения о судьбе ресурсов, которыми они не владеют и за которые юридически не отвечают как собственники. В результате политика превращается не в форму управления общим имуществом, а в отдельную сферу влияния, существующую по своим правилам и логике самосохранения.
Политик в такой системе распоряжается активами не потому, что ему делегировали право собственники, а потому что он занимает должность. Его мандат политический, но не экономический. Он не связан с гражданином отношением владельца и управляющего, а потому не несёт персональной ответственности за результаты своих решений. Убытки социализируются, ошибки списываются на «объективные трудности», а выгоды концентрируются в узком круге приближённых к распределению ресурсов. Политическая власть живёт в режиме безнаказанного эксперимента над чужим имуществом.
Отсутствие персональной ответственности за ресурсы формирует особый тип элит — администраторов без риска. Они могут запускать неэффективные проекты, продавать активы по заниженной стоимости, накапливать долги и перекладывать последствия на будущее поколение, не опасаясь прямых санкций со стороны собственников. Народ в этой конструкции не может «уволить» политика как плохого управляющего, потому что формально не признан владельцем. Его единственный инструмент — редкие электоральные процедуры, не связанные напрямую с управлением богатством страны.
Так возникает власть без ответственности и ответственность без власти. Гражданин несёт последствия решений, но не участвует в их принятии как собственник. Политик принимает решения, но не несёт за них имущественной ответственности. Эта асимметрия разрушает саму идею подотчётности, превращая политику в замкнутый клуб, где карьерный успех измеряется лояльностью системе, а не эффективностью управления национальным достоянием.
С точки зрения Модели 90/10 политическая проблема оказывается производной от экономико-правовой. Как только народ становится зафиксированным реестром собственников, политика неизбежно меняет характер. Элиты получают экономический мандат от владельцев и теряют возможность управлять ресурсами без согласия и контроля. Любое политическое решение начинает иметь измеримую стоимость и измеримые последствия для долей собственников. Власть перестаёт быть символом статуса и становится функцией обслуживания, а ответственность возвращается туда, откуда она была изъята, — в прямое отношение между собственником и управляющим.
2. Коррупция как системная функция
– Коррупция — не моральная, а архитектурная проблема.
– Тайна + централизация = неизбежное воровство.
Что меняет 90/10:
– Любая транзакция публична.
– Коррупция становится технически невозможной, а не уголовно наказуемой.
– Политик — менеджер с KPI, а не феодал.
В существующей политической системе коррупция рассматривается как отклонение от нормы, как моральная или этическая проблема отдельных индивидов. На практике же она оказывается встроенной в архитектуру власти. Тайна решений, закрытость финансовых потоков и централизация ресурсов создают идеальные условия для системного присвоения чужого. Когда никто не видит, кто владеет, кто распоряжается и как распределяются доходы, «воровство» перестаёт быть нарушением, оно становится естественным следствием конструкции. Централизация и секретность — вот закон, по которому живёт коррупция.
Модель 90/10 кардинально меняет эту систему. Любая транзакция становится публичной, привязанной к конкретному собственнику и проверяемой алгоритмом. Приватность в традиционном смысле больше не означает возможность скрыть актив; она лишь защищает персональные данные, не влияя на прозрачность потоков ресурсов. Любое присвоение или манипуляция становятся мгновенно видимыми всему сообществу, и таким образом коррупция становится не уголовно наказуемой функцией, а технически невозможной.
Политик в новой архитектуре перестаёт быть феодалом, который «делит пирог» по своему усмотрению. Он становится менеджером с KPI, с фиксированными долями, прозрачными задачами и измеримым результатом. Его статус не даёт преимуществ в присвоении ресурсов, он лишь гарантирует, что 10% управления используется эффективно для поддержки инфраструктуры и сервисов. Власть превращается из средства контроля в инструмент обслуживания, а коррупция исчезает не потому, что введены штрафы или проверки, а потому, что сама конструкция системы исключает возможность тайного присвоения.
В этой модели этика и закон перестают быть абстрактными надстройками и становятся частью цифрового архитектурного кода. Право собственности и прозрачность, встроенные в технологию, создают систему, где честность — не моральный выбор, а встроенное свойство самой экономики и политики.
V. Социальная политика: от подачек к достоинству
1. Соцподдержка как признание бедности
– Льготы, субсидии, пособия — форма легализованной нищеты.
– Государство решает, кто «достоин помощи».
***
В современной системе социальная поддержка функционирует не как инструмент равенства и развития, а как признание бедности и зависимого положения граждан. Льготы, субсидии и пособия воспринимаются обществом как необходимый минимум для выживания, а не как элемент справедливого распределения богатства. Государство решает, кто «достоин помощи», а кто нет, и эта оценка всегда носит субъективный, бюрократический характер. В итоге получатель социального обеспечения оказывается не субъектом права, а объектом милости, зависимым от решений чиновников.
Эта модель подчиняет граждан психологически. Получатель помощи ощущает себя временно «допущенным» к ресурсам, которые по сути должны принадлежать ему как совладельцу. Социальные выплаты становятся символом подчинения, а не инструментом самореализации. Люди начинают смотреть на государство не как на сервис, а как на властителя, который решает, кто достоин жизни в достатке.
Модель 90/10 радикально меняет этот подход, превращая социальную политику из подачек в инструмент достоинства. Каждому гражданину автоматически начисляется доля в национальных ресурсах и доходах, которые ранее концентрировались в государственном бюджете. Дивиденды от этих активов не являются милостью — они законное право собственника. Социальная защита перестает быть оценкой нуждаемости и становится гарантией участия в управлении национальным богатством.
Теперь гражданин не просит, а распоряжается. Льготы заменяются прозрачными дивидендами, пособия — правом голоса и участия. Вся социальная политика строится на доверии к собственнику и стимулирует инициативу. Люди начинают инвестировать в своё сообщество, строить инфраструктуру махалли, поддерживать образование и здравоохранение на своей доле, а не ждать милости сверху. В результате формируется принципиально новая этика: человек больше не зависимый субъект, а активный совладелец, способный влиять на качество своей жизни.
2. Утрата субъектности
– Человек не планирует будущее, а выживает.
Что меняет 90/10:
– Социальная политика заменяется дивидендной.
– Человек сам решает: образование, бизнес, здоровье.
– Возвращается достоинство собственника.
***
В существующей системе социальная политика лишает человека возможности быть субъектом своей жизни. Он не планирует будущее, а выживает от выплаты к выплате, от субсидии к льготе. Любая долгосрочная стратегия невозможна, потому что ресурсы, на которые он мог бы опереться, принадлежат абстрактному «государству», а не ему лично. Гражданин превращается в реактивного участника, всегда зависимого от решений третьих лиц, утратившего чувство контроля и ответственность за собственную судьбу.
Модель 90/10 полностью меняет эту динамику. Социальная политика заменяется дивидендной: каждый человек получает долю национального богатства как право собственности, а не как милость. Он самостоятельно решает, куда инвестировать эти средства — в образование, бизнес, здоровье или развитие сообщества. Ресурсы становятся инструментом свободы, а не рычагом подчинения.
В этой модели возвращается достоинство собственника. Человек перестаёт быть объектом системы и становится её активным участником. Его решения имеют прямые последствия, а действия оцениваются не по милости начальства, а по результату, который он создал, распоряжаясь своим законным капиталом. Субъектность становится не декларацией, а практическим опытом, а социальная политика — средством раскрытия потенциала, а не инструмента контроля.
VI. Махалля: от контроля к самоуправлению
1. Махалля как инструмент надзора
– Вертикаль до двора.
– Контроль вместо солидарности.
***
Традиционная система махаллей в Узбекистане формировалась как инструмент надзора, а не как орган самоуправления. Вертикаль власти опускается от кабинетов районных и городских администраций прямо к двору: старший, аксакал или инспектор становится проводником государства в жизни каждого дома. Вместо того чтобы объединять жителей для решения общих задач, махалля выполняет функцию контроля — проверяет соблюдение правил, фиксирует жалобы, информирует вышестоящих. Солидарность соседей подменяется обязанностью подчиняться, а инициатива подавляется страхом перед бюрократическими санкциями.
Жители в этой структуре становятся наблюдаемыми объектами, а не активными участниками своей общины. Любое решение, касающееся ремонта, благоустройства или организации местного хозяйства, требует согласования с вертикалью. Доверие и коллективная ответственность заменены процедурой отчётности и риском наказания. Махалля существует не для людей, а для контроля над ними, и эта архитектура закрепляет зависимость граждан от внешней власти.
Модель 90/10 меняет смысл махаллей с корня. Они становятся естественным пространством самоуправления, а не инструментом надзора. Каждый двор, каждая улица, каждая община получает право управлять своей долей национального достояния: ремонтировать дороги, строить инфраструктуру, инвестировать в образование и здравоохранение. Решения принимаются коллективно, исходя из интересов собственников, а не по указанию чиновников.
Контроль сменяется прозрачностью и вовлечённостью. Информация о расходах, инвестициях и результатах доступна каждому жителю, и любые попытки манипуляции мгновенно выявляются сообществом. Махалля превращается в лабораторию демократии и ответственности, где власть не навязывается сверху, а вытекает из права и обязанностей совладельцев. Солидарность больше не декларация, а практика: люди понимают, что успех их двора, улицы или квартала прямо влияет на их собственное благосостояние, а значит, каждый становится активным участником.
2. Махалля как экономическая единица
– Сегодня: нет бюджета — нет решений.
Что меняет 90/10:
– Махалля получает коллективную долю.
– Самостоятельные инвестиционные решения.
– Возвращение подлинной общинной демократии.
Сегодня махалля в Узбекистане почти не обладает экономической самостоятельностью. Любое решение — от ремонта двора до организации местного рынка — зависит от бюджета, который контролируется администрацией сверху. Без финансовых ресурсов махалля не может действовать, её инициативы остаются декларативными, а планы — бумажными чертежами, не имеющими практической силы. Люди ощущают себя зрителями собственной жизни, а не участниками процессов, которые определяют качество их повседневного существования.
Модель 90/10 полностью меняет экономический статус махалли. Каждое сообщество получает коллективную долю в национальных ресурсах, фиксированную в реестре собственников. Теперь решения о распределении средств принимаются жителями напрямую: строительство инфраструктуры, создание школ, организация коммунальных услуг, запуск местных бизнесов — всё становится вопросом коллективного выбора собственников. Бюджет перестаёт быть «черным ящиком» администрации, он становится отражением воли и интересов жителей.
Возвращается подлинная общинна
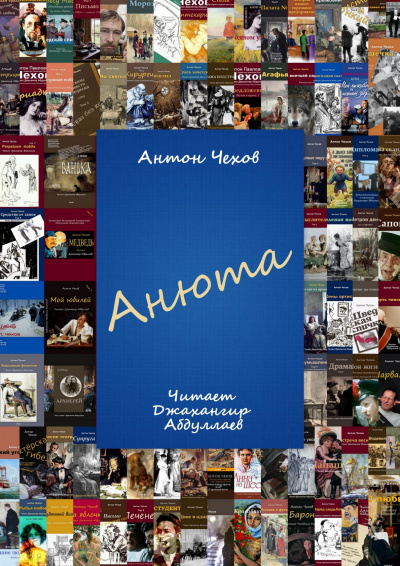

65
Анюта шатается по меблированным комнатам, живёт то с одним студентом, то с другим, помогает по дому как может. Если надо, её одалживают соседу. Когда её общество надоедает, Анюту прогоняют прочь. Она безропотно со всем соглашается.